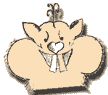|
Месяц SC
Хмурым утром первого ноября одна тысяча триста пятьдесят второго
года меня тормознул на таможне аэропорта Шереметьево-2 пьяный и
старый, как дерьмо мамонта, кирасир. Вытряхнув на заплеванный пол
мой дорожный мешок, он вынул из груды грязного тряпья полукилограммовый
пакет ганжи, взвесил на заскорузлой ладони, ухмыльнулся беззубым
ртом и ударил меня кулаком в лицо. Потом меня били еще в вахтенном
помещении, в коридоре, в сортире и во дворе. Мягкие, белые снежинки
крутились в морозном воздухе, ложась белой пылью на окаменевшую
землю. Я смотрел на них сквозь багровую пелену и мир казался розовым
и теплым, потом я упал. Меня кинули на телегу провонявшую мочой
и кровью и повезли в Москву. По дороге я очнулся от ощущения невероятной
тоски и одиночества, избитое тело просило покоя, душа была серой
и безмятежной. Мимо проплывали придорожные кусты, изогнутые деревца
и замерзшие лужи. Солнца не было. Сплошная белесая пелена покрывала
низкое небо, исторгая из себя сероватую перхоть первого снега. Изредка
попадались прохожие. Понурые мужики, или горбатые бабы с косорылыми
детьми. Они тупо глазели на телегу, стоя в ледяной грязи почти по
колено и молчали, молчали.
Это безмолвие поразило меня. Огромная страна молча замерзала, уходя
в ноябрь. Я смотрел ей в след и прощался, шепча разбитыми губами
неразборчивые слова проклятий. Что я клял - не понимаю, но так хотелось
залить этот мир страхом, тоской и отчаянием, обрушить это грязное
небо на грязную землю и придавить темнотой всех живущих на ней от
мала до велика, в плоть до запряженной в эту телегу лошади, дабы
избавить землю от собственного позора, именуемого Россия. Нет страха,
не пугает ничего в этом необозримом времени оно ложиться под колеса
подобно разбитой дороге, и остается за спиной неровной ниткой, в
узлах и порывах бывших событий, даже память о которых исчезает за
горизонтом. Есть только момент существования сейчас и более ни чего.
Я мысленно брал холодные комья этой земли, сжимал их в ладони до
боли, пытаясь раздавить и посмотреть в глубину каждого её атома,
чтобы понять: зачем все так, и почему именно меня занесло сюда,
на эту дорогу, в это время, и чем все это кончится, если у этого
вообще есть конец. Нет страха. Только тупая уверенность в том, что
все будет в порядке, только вера в силу исходящую изнутри, сокрушающую
хрупкую телесную оболочку, вырываясь наружу. Есть мир, который можно
менять по своему подобию.
Рассуждая, таким образом, я валялся в телеге, которая влекла меня
в перед к стольному граду. Руки и ноги затекли невероятно. Боль
от побоев переросла в тупой стон всего тела, во рту стояла горечь
от кровавого месива. Полупьяный капрал то и дело клевал носом, просыпаясь
на ухабах, матерясь, засыпал вновь. Старая лошадь, непристойно виляя
задницей, лениво тащила нас по дороге, кивая головой при каждом
шаге. Я окончательно пришел в себя.
Снег шел своим чередом. Пока я пребывал в состоянии полного отупения,
на землю успели опуститься сумерки. По сравнению с днем это было
еще более удручающее зрелище. Фиолетово сиреневая ледяная грязь
заполнила все во круг. Казалось, будто стоит открыть рот, и она
хлынет в внутрь, и придется блевать до утра, что бы освободиться
от этой мерзости. Мой возница отрубился окончательно. Он то икал,
то всхлипывал во сне, то попердывал и снова икал. Стало темно. Перспектива
провести ночь в поле меня, ни хрена, не радовала, поэтому пора было
бы принять какие то меры. Развязав без труда гнилые веревки, я вытащил
из потайного кармана тесак и отрубил голову спящему капралу. Меня
обдало липкой горячей жижей, толи кровью, толи дерьмом. Утеревшись
подолом его сюртука, я выпряг лошадь и направился вперед по дороге.
Животное лениво последовало за мной. Ей было страшно оставаться
ночью наедине с обезглавленным телом, пройдя несколько шагов, она
обернулась и плюнула через левое плечо. Слюна смешалась с падающим
снегом и исчезла в темноте.
Пройдя несколько верст, мы увидели свет. Желтое пятно размером с
горошину маячило на горизонте и притягивало желанным теплом. Переглянувшись,
мы прибавили шаг и, вскоре, пятно выросло до размеров окна придорожной
забегаловки с обшарпанной вывеской «Трактиръ». У порога лежал коврик
с надписью «Welcome», а на перилах прилеплен выгоревший тетрадный
лист «ОКРАШЕНО». Я толкнул скрипучую дверь, и мы вошли. В ноздри
веслом ударил потрясающий аромат кабака! У барной стойки сидели
бляди. Ко мне моментально подскочил половой, сальный детина с красной
рожей и поросячьими глазенками. Извиваясь, он обратил мое внимание
на тот факт, что в их заведение не принято входить со скотом, и
более того, мне не мешало бы привести себя в порядок, потому как
с минуты на минуту может нагрянуть пристав и засунуть шершавого
мне за щеку, а то и еще куда-нибудь подальше. Его рассуждения показались
мне вполне резонными, и я спросил переодеться, сославшись на дорожные
трудности, приведшие меня к такому плачевному виду. Кредитная карта
Visa окончательно закрепила наши дружеские отношения, и я, поручив
несчастную лошадь заботам хозяйского мальчика, проследовал за половым
в задние комнаты. Мне были предложены: ванна 1 шт., мыло 1 шт.,
вода в ассортименте, халат банный, голые помойщицы старая и помоложе
2 шт., хозяйский мальчик один. Я приказал мальчику тоже обнажиться,
дабы не нарушать гармонии, и влез в ванну. Райское блаженство сотрясло
моё тело невероятной судорогой. Горячая вода приняла меня, как мать
заблудшее дитя. Женщины старательно драили меня во всех местах,
смывая коросту долгого перелета, таможенный инцидент и воспоминания
о дороге. Воду меняли трижды. Она стекала с меня черной нефтью в
белоснежную ванну. Бабы весело шутили и непринужденно трепались
о своем. Хозяйский пацан держал наготове махровое полотенце, чтобы
промокать мне лицо от испарины и капель воды. В месте с грязью сошли
и синяки. Не заметно пропала боль, и я вдруг ощутил знакомый прилив
тепла и упругость где-то внизу за пределами живота. Старая потерла
там еще, потом отпустила мочалку и, крепко взяв меня за член обеими
руками, потянула его себе в рот. Все это, очевидно, входило в традиции
русского гостеприимства, по этому я не возражал, и предпочел вежливо
промолчать. К тому времени у хозяйского пацана определилось некое
подобие эрекции, и он, повесив на свой стручок полотенце, отправился
за пивом. Мойщица помоложе стригла мне ногти на ногах сидя своей
великолепной розовой голой задницей на деревянном табурете и косила
на меня шалыми карими глазами. Я содрогнулся и кончил. Старая, выдавив
все до последней капли себе в ладонь, широко вытерла пот со лба,
выдохнула и велела вылезать.
Удивительные животные эти бабы. Вот бывает, тварь, тварью, а знает,
как за хер взять, что обалдеть можно на всю оставшуюся жизнь. Так
и будет держать за него, и ни куда не рыпнешься, а гавкнешь – получишь
по хлебалу и заткнешься, и гавкать разучишься, только скулить будешь
жалобно: «Дай, дай». А она еще подумает, раздвигать ноги или нет.
А как сама чего захочет, так и дохлый член поднимет, и упасть не
даст. Ох уж и охочи они до этого дела! Мужику то что, пивка выпить,
за жизнь поговорить, рыбалка, охота, марки там, значки всякие. Поставит
палку, и спасть, на бочек, сопеть и думать о распредвале на коробку
генератора у передней полуоси дальнего света. А им все мало, напихать
бы сто херов в рот и в жопу, да еще и семечки при этом грызть и
шелуху сквозь херы сплевывать. Воистину мерзкие твари.
Пока я думал пацан вернулся с пивом. Он волок двенадцать пол-литровых
кружек в своих маленьких лапках, пыхтел и надрывался. Пиписька его
опала и полотенце он уже где-то просрал, но был доволен и по-детски
счастлив. Молодая взяла у него кружки и поставила на стол. Пацан,
сверкая ляжками, унесся за закусем, он, определенно начинал мне
нравиться. Я стоял в распахнутом халате посреди комнаты и с удовольствием
тянул первую кружку. Блаженная влага проникала в каждую клетку моего
тела. В это время половой внес мою новую одежду, новый паспорт на
другое имя, фамилию и лицо, и подорожную грамоту с большой фиолетовой
печатью в углу. Паспорт был на имя гражданина Чили Пуэбло Гарсия
Испиносы, я спросил его, почему именно Чили, на что он ответил,
что ни о какой Чили он ни хера не знает, а ксива реальная и хайло
в ней нарисовано прикольное, что, типа, в кабаке недавно порезали
цыгана, так при нем эту штуку и нашли, а что касается подорожной,
так здесь все чисто, сам генерал-губернатор подписал, пока я парился.
Ни сколько не удивившись расторопности этого малого, я надел свежее
бельё, кафтан зеленого сукна, сапоги и орден «За взятие Таганрога».
Бабы причесали меня и удалились восвояси, хозяйский пацан принялся
прибирать в комнате, а мы проследовали в общий зал, где уже изрядно
прибавилось народу, стоял табачный дым и гомон голосов.
На меня ни кто не обратил внимания, следовательно, одет был я соответственно
обстановке и ни чем, кроме паспорта от остальных не отличался. Подойдя
к стойке, я спросил водки и, взяв графин со стаканом, отправился
за дальний столик в углу. Мне очень хотелось повнимательнее разглядеть
присутствующих, потому что меня не покидала странная мысль о несоответствии
происходящего реальности. Присутствовала какая-то подмена понятий
или определений. Происходящее было явно как-то связано со мной и
заранее предопределено. Я налили полный стакан, и опрокинул его
внутрь себя. Водка устремилась вниз горячей вулканической лавой,
упав в желудок, разбилась там, на сотни огненных брызг, в половину
остыла и ударила в голову. Мир приобрел краски и звуки. Все вокруг
наполнилось ими. Я повторил и повторил еще раз. Мне на плечо опустилась
чья-то рука. Я повернул голову и увидел крепкого мужика с невероятно
добрыми и умными глазами. Он был похож на ямщика, но слишком странно
одет. Я чувствовал приятное расположение к нему, поэтому предложил
сесть рядом, а второй стакан возник сам по себе. «Михаил, дальнобойщик»-
представился он и мы выпили. «Ты забей на эти мысли, мать их, чего
репу-то морщить, здесь не понятно ни хера. Вот я человек простой
зашел суда пожрать, выпить, бабу зацепить, а в голову всякая муть
лезет, как будто все эти рожи знакомы, и я уж с ними уже нацеловался
до кровавых мозолей и промеж ног каждую складку знаю, как свою собственную.
Не понимаю, поэтому пью. Давно я здесь, толи с утра, толи год же
прошел. Херовое место, гиблое, канать от сюда надо, а до дверей
дойти не могу. Машину не заглушил, думал на минуту зайду, а хера,
застрял. Ты, браток, хлебалом не торгуй, а постарайся прикинуть
от сюда, пока тот шустрый малолетка тебе жопу не подставил, я вижу,
что ты на него давно бельмы пялишь. Точка здесь, перевал. Вот занесет
пургой по самую крышу, а к весне и скопытятся все, ни кто не выйдет.
Я такое гогвно на Урале видал. По весне стаяло, а в харчевне только
тела синюшные, да плесневелая блевота с кровью, жуть такая, что
обосраться можно. Их даже хоронить не стали, залили все соляркой
со своих баков, да подожгли. Я после там снова проезжал, опять кабак
стоит, видать место бойкое». Я сидел и думал, какое мне дело до
пьяной болтовни какого-то ямщика. Там за грязными стеклами простирается
огромная белая равнина с повешенной над нею луной. Мне надо туда,
я хочу морозного воздуха и хруста первого льда под ногами, запаха
кожаного пальто и тепла шерстяного свитера, хочу туда, где все началось.
Собственно говоря, началось это гораздо раньше, но основы закладывались
в подобную осень, когда снег с дождем и шорох опавшей листвы настраивали
сознание на определенный лад. Когда мечты обретали телесную форму
и жили в реальном мире вместе со мной.
Вечер продолжался. Открывалась дверь, и приходили новые люди. То
и дело слышался пьяный хохот толстожопых шлюх, звон стекла и матерные
крики посетителей. Ямщик сидел рядом, но уже молчал, видимо вспоминая
что-то из своего прошлого. Его присутствие не тяготило меня, и я
продолжал размышлять и наблюдать за окружающими. Принятый алкоголь,
постепенно давал о себе знать. Не то, что бы я захмелел, но в голову
уже полезла знакомая словесно мысленная муть. Окружающий мир стал
резонировать с моим внутренним, и вновь возникли образы, воспоминания,
видения.
Ощущение реальности постепенно оставило меня. Мне захотелось отречься
от происходящего, поуютнее укутаться в собственной душе и уйти подальше
в себя. Из белесой пелены тумана сначала проступила кривая мокрая
ветка невидимого в дерева. Она была совершенно без листьев. Мертвое
обнаженное тело, бывшее упругим и юным, торчало, нелепо раскинувшись
в разные стороны. Потом, чуть слабее, проступил ствол, весь в глубоких
морщинах и трещинах, а в низу, у основания, дерево впивалось когтистыми
лапами корней в землю, редко покрытую поседевшей травой. Было пронзительно
тихо. Воздух чист. Я потянулся к ветке, дотронулся, и с неё упало
несколько капель воды. Звук был подобен падению слез на плотный
лист бумаги. Звук, который, скорее не слышишь, а чувствуешь всем
телом, и от этой влаги расплываются строчки письма. И туман поплыл.
Тяжело медленно, собираясь в плотные пряди, скользя ими по траве,
путаясь в ней, клубясь, уходя, прочь. Он медленно шел мимо меня,
поворачивая голову, стараясь разглядеть своими пустыми глазами нечаянного
гостя. Бессильно цепляясь за мою одежду, он оставлял мокрые следы,
которые выделялись черными полосами на спине, на груди и на руках.
Я, вдруг, почувствовал, касание руки. Легкое, но до такой степени
пропитанное желанием, что внутри меня, поднялась, переходя из холода
в жар, лавина невероятной нежности и любви. Я попробовал прижать
эту руку своей к губам, но она уже, в паре с другой, скользнули
к моей груди, обвили её, и шеи коснулся бархатистый, мягкий, первый
поцелуй. Голова покорно легла на плечо, предоставляя чужим губам
все открытое пространство от воротника до корней волос. Глаза закрылись
сами собой, губы искали её лицо, а она все целовала и целовала меня,
не пропуская ни чего, не давая повернуть мне головы и увидеть её
лицо. Но я чувствовал её запах, слышал её дыхание, ощущал её тепло.
Она прижималась грудью к моей спине, притягивала свои бёдра к моим
и старалась слиться со мной, войти в меня. Туман уже весь иссяк,
и под небом открылась огромная долина, окаймленная лесом и увенчанная
заснеженной горой, где-то вдалеке. Мы стояли на опушке леса, на
самой грани мелких кустов и косогора, который плавно уходил в низ
к дороге. Она петляла, вырвавшись из чащи, потом успокаивалась и
медленно текла среди пожухлой травы и редких кустов шиповника. Объятия
моей гостьи становились все крепче и настойчивей, а я не мог оторвать
глаз от картины, раскинувшейся передо мной. В дали, на дороге, виднелась
группа людей. По характерному звону металла, я предположил, что
это солдаты. Не большой отряд двигался через долину по направлению
к нам. Моя неведомая девушка, прижавшись к уху губами, одновременно
с поцелуем прошептала: «Наемники», и повлекла меня в объятиях на
землю. Я, теряя равновесие, стал падать вместе с ней, схватился
за ветку, и она сломалась у меня в руке с громким сухим треском.
Проваливаясь, все ниже и ниже я чувствовал только объятия и долгий
нежный поцелуй.
Громкий хохот во круг заставил меня открыть глаза. С начала я подумал,
что отряд настиг нас, и теперь глумиться перед расправой, но, придя
в себя, я обнаружил, что лежу на полу кабака с обломком стула в
руке. Рядом со мной нелепо барахтался, пытаясь встать, хозяйский
мальчик. Поднявшись, он повлек меня куда-то прочь, через хохочущую
толпу за подол сюртука. В тихой прохладной комнате, отдышавшись,
он посмотрел на меня и отвернулся. Я ощущал странную смесь чувств.
Во мне одновременно ютились и боль, и жалость, и неловкость. Мне
хотелось протянуть руку к его плечу, смотреть на его лохматую голову,
привлечь его внимание, чтобы он повернулся ко мне лицом. Мне так
в эту секунду не хватало его лица. Все было не правильно, все было
абсолютно не так, как надо, и вдруг он повернулся. Огромные, ясные
серые глаза смотрели на меня в упор, казалось еще мгновение и он
разорвет меня этим взглядом на части. Жесткое спокойствие, сострадание,
жалость, сожаление сплетались там, в одну нить. Там была еще любовь,
но не для меня, а для другого подобного мне. И тут я впервые услышал
голос.
- Зачем ты явился сюда? Кто тебя звал? Ты, отвратительное чудовище,
зверь, тебя нельзя даже выгнать, потому что тебя нет, тебя нельзя
проклясть, потому что нет проклятий для тебя. Ты снова пришел для
того, чтобы искать потерянное, но ты этого не терял, ты бросил это
ноябрьской холодной ночью на развилке дорог, и Он просил тебя: «
не надо, не делай так», а ты пренебрег его просьбой и явился к Нему
с гордо поднятой головой, колен не преклонил и смутил народ в доме
Его. Ты лесная тварь. Твой кров - безлунная полночь, твоя постель
– холод и одиночество, твои женщины – печаль и безысходность. А
ведь она, она любила тебя, а ты стал палачом, она смотрела на тебя
глазами полными слез и просила не уходить, а ты стал странником,
ты разорвал ей душу на части, сделал её жизнь кошмаром и отдал её
другому, который убил её. Ты, даже не заключал сделку с дьяволом,
ты приобрел у него часть его сущности. Сколько можно, переходя из
века, в век переворачивать пространство и время искать брошенное
с надеждой вернуть прошлое. Остановись, или, хотя бы умри.
Черная пена подступила к горлу. Ледяной холод проник внутрь. Я расправил
плечи и выпрямился. Вот оно в чем дело! Молниеносный удар свали
пацана с ног и вогнал его в дальний угол комнаты. По лицу потекли
кровавые сопли, глазки в страхе забегали, и он съежился словно подзаборная
шавка.
- Дядя, не надо не бейте меня, а то я работать не смогу, мать заругает,
выгонит к черту на мороз, или упырям отдаст. Я вижу, что вам грустно,
вот
и решил по душам поговорить, а вы сразу в рыло, да еще и так больно.
Тем временем к шуму кабака за стеной прибавились звуки с улицы.
Топот нескольких десятков копыт, голоса, и хруст снега под ногами.
Через несколько секунд, после оглушительного скрипа входной двери,
раздались крики, грохот ломаемой мебели, звон бьющейся посуды и
лязг металла. Надо всем этим стоял пронзительный бабий визг. Что-то
несколько раз тяжело ударилось о стену и со зловещим шорохом сползло
в низ, на пол. Мальчик испуганно озирался по сторонам, в поисках
места, где спрятаться. Среди голосов за стеной явственно выделялся
один. Он царствовал надо всем этим хаосом, временами срываясь в
мощном выдохе удара, после которого следовал неизбежно то крик,
то стон, то глухое падение тела на пол. Слов было не разобрать,
но в этом голосе ощущалась невиданная власть и сила. Вдруг наша
дверь распахнулась, и вместе с шумом кабацкой драки в проем ввалился
дальнобойщик Михаил. Судя по его виду, вечер явно не задался. Голова
была рассечена во многих местах, куртка и рубаха на нем были изорваны
и изрезаны в клочья. Зацепившись ногой за порог, он рухнул внутрь
комнаты и затих. В его спине торчал, загнанный по рукоять между
лопаток, боевой топор. Я перевернул его набок, как тяжеленную бадью
с кровью, и она медленно полилась из него на деревянный пол. Пацан
с ужасом смотрел на все это и боялся пошевелиться. Михаил часто
и прерывисто задышал и попытался встать. Поскользнувшись рукой в
луже собственной крови, он снова ударился о пол и застонал. '' Точка,
здесь, перевал. Ни кто не выдет, все останутся, так и занесет по
самую крышу снегом, а к весне…..", он содрогнулся всем телом,
изо рта вместе с языком вывалился огромный комок свернувшейся крови.
На все это время крики остались, будто бы в стороне, за непроницаемой
пеленой случившейся смерти, и теперь ворвались внутрь комнаты страшным
потоком человеческой боли. Я медленно поднял голову и встал. Не
видимый с наружи в полумраке комнаты я наблюдал картину всеобщего
хаоса и резни. В большом зале группа людей в кирасах с короткими
окровавленными мечами методично уничтожала всех присутствующих.
Никто уже и не сопротивлялся, а наоборот, старались спрятаться в
любую щель, но их настигали и закалывали на месте. На барной стойке
рослый седой солдат насиловал визжащую, как свинья толстую бабу.
Быстро закончив, он размозжил ей голову огромной медной пивной кружкой,
потом повернулся в угол и стал смачно отливать. У дальней стены
командир отряда допрашивал лакея, тот в ужасе пучил свои бараньи
глаза, а в руках держал выпавшие из живота кишки. Очевидно, не добившись
ничего, командир прикончил его ударом меча. « Наемники», услышал
я сзади шипение пацана. В этом голосе и слове мне послышалось, что-то
знакомое, но концентрироваться на этом, пока не стал. Я сделал первый
шаг в сторону света. Странно, но я не испытывал ни каких чувств.
Мне было все равно, что произойдет через минуту, и я переступил
порог. Первое, что сучилось, это ко мне повернулся командир.
- Какого хера, капитан! Мы ищем вас уже черт знает сколько времени.
Я уже грешным делом думал, что вас пришили эти голодранцы. Они тупые
как козлы, ни кто, ни хера не знает, мычат только чего-то на своем
диком языке, да руками машут. А вы же знаете, капитан, как я этого
не переношу. Чего махать-то, когда я конкретно спрашиваю: «Где наш
капитан», а они смотрят тупо и молчат, твари хитрожопые. Мы по пути
уже с десяток деревень вырезали, да сожгли, а они все молчат. А
вот девки у них хорошие, да и бабы ничего. Там в впереди город какой-то,
огней много, может, того, расслабимся по нормальному, а то ребята
совсем озверели, ни жратвы нормальной, ни хаты, со столетней войны
не видели. А если там чего ни так, мы их за раз с землей сровняем,
хоронить будет некого, все пеплом пойдет. Ей мужики, кончаем последних,
и канаем от сюда в город. Месяц отдыха, и потом обратно в леса!
Всем ясно, два раза не повторяю, башку отверну к едрени матери тому,
кто позже меня в седло прыгнет. В перед!
Я подобрал это животное где-то в лесу на севере Франции. Когда он
перестал рычать и кусаться, я одел на него латы, дал топор и приказал
идти в перед. Остальные липли к нему, как мухи. Но долго не задерживались.
Оставались самые отборные. Они не старели, смерть их сторонилась,
потому что они сами были смертью во плоти. Они существовали вне
времени, нелюди, упыри, вечно пьяные и грязные, ими пугали детей,
их покупали короли, на них устраивали облавы, вешали, травили, но
тщетно. Они уходили, оставляя за собой мертвые тела и сожженные
города. Наемники. Серая чума. Когда стих последний стон, и весь
отряд уже был за дверью, я вернулся в комнату. Мальчик сидел на
полу и плакал. На звук мох шагов он поднял свою голову и протянул
ко мне руки. Продолжая рыдать, он все тянулся и тянулся ко мне,
жалобно всхлипывая, и глотая слезы. Ручонки его мелко тряслись,
он все хотел встать, но не мог. Мне показалось, с начала, что ему
отрезали ноги, но нет. Он просто обессилил от шока и горя.
- Дядя, Он ждет тебя, Он хочет, что бы ты пришел, Он вернет тебе
то, что ты потерял. Он даже, наверное, вернет тебе её, только теперь
на всегда. Она ищет тебя, ей плохо, ей больно, одиноко и страшно.
Он добрый, Он все сделает правильно. Ты только верь Ему.
И я оставил его. Маленького беззащитного пацана у мертвого тела
незнакомого человека, среди других остывающих тел незнакомых людей,
в хаосе и холоде разбитого дома. Он смотрел мне в спину долгим немигающим
взглядом, и я уходил под его тяжестью прочь. А мне бы остаться,
похоронить всех, вымыть полы, да навести порядок. И был бы у меня
дом, и было бы в нем тепло. А может быть и не пацан это вовсе, но
теперь уже поздно. Уже не к чему все это. Надо идти.
Багряные кони, увенчанные багряными всадниками, взбивали снежную
пыль с промерзшей земли. Выворачивая мускулистые шеи, сверкая шалыми
глазами, они рвались вперед. Седоки с трудом сдерживали поводья,
тянули их на себя, заставляя страшных животных вставать на дыбы.
Я вышел во двор, и морозная ночь упала под ноги хрустом снега. Как
хорошо было дышать! Печальная свежесть наступающей зимы наполнила
меня спокойствием и тишиной. Все суетно. Все нелепо в этом мире.
Зачем он? Шаг за шагом, проходя между всадниками, я чувствовал,
насколько они далеко от меня. За непроницаемой стеной ото всего
мира был я, одиноко бредущий в неизвестном направлении путник. Снежинки
осыпали моё лицо и плечи, попадали в глаза, и очень хотелось плакать.
И деревья молчали, и молчало небо, и земля была тиха и безмятежна.
Я подставлял свое лицо прохладе, и она ласкала меня, нежно гладя
по щекам, трепала волосы, целовала в горячие губы. Она обнимала
мою спину, прижимала к себе и дышала на меня чем-то родным, давно
забытым. Я люблю эту погоду, я знаю, что всегда любил эту погоду,
и она останется со мною до наступления смерти.
Я легко оказался в седле, и отряд, рванув с места, описав дугу вокруг
кустов сирени, вышел на большак. Поднялся ветер, снег иссяк, взошла
луна. Сзади, на пригорке, едва различимым силуэтом, я увидел телегу
с обезглавленным возницей. Лошадь стояла рядом и щипала из-под него
старую солому. Потом все исчезло. Я приказал перейти на шаг и поехал
чуть поодаль впереди отряда. Выдрессированные за сотни лет солдаты
ехали молча, мерно покачиваясь в седлах, угрюмо глядя вперед. Скоро
забрезжили огни. Покосившаяся застава выплыла из темноты, как остов
брошенного корабля. У края дороги стоял полосатый столб с прибитым
к нему фанерным щитом. «МОСКВА». Ни кто не встретил нас, не потребовал
документов. И мы спокойно проследовали дальше. Впереди огнями обозначился
город, и снова пошел снег.
далее>>
|
|